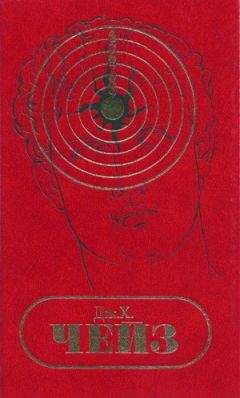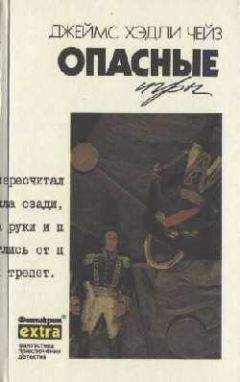произношу, сама себя почти не различаю.
— Впусти меня. — Он обрывками говорит. — Впусти.
Я не успеваю ответить. Или решить: впускать или нет. Или просто пойти утопиться уже в пруду или в колодец сброситься.
Он сам себя в номер приглашает, вынуждая меня отодвинуться.
И закрывает дверь за собой на замок.
Бумаги он на пол попросту бросает, прямо у двери.
Я прилагаю все усилия, чтобы не пятиться...
… но так как развернуться и пройти обратно в комнату не могу….
… поэтому, да, я загнанно продвигаюсь по коридору спиной вперед, а Кулак на меня прет.
Он совсем потерянный в своей разозленности. Идет неровно. Хотя всегда очень четко и прямо передвигается, так как вообще плавности лишен.
Во всем.
Касаюсь плечом уже стены в комнате, и все-таки разворачиваюсь, чтобы к кровати отойти. Спасительными шагами.
Замираю там, и слабо обнимаю себя, прикрываясь руками.
— Что-то с распечаткой не так?
Черт побери, двадцать лет в родительском доме, где тебя и за вещь не считают, не прошли даром. Я звучу абсолютно нормально. Взволнованно, конечно.
Но это ничто по сравнению с испепеляющим хаосом и сенсорной смутой, что изнутри мой мир уничтожает.
Потому что он заговаривает. Сжимает исщерпленные венами руки в кулаки. Пружинисто на месте застывая, будто сейчас из тела собственного выпрыгнет.
— Я обслужу тебя. — Голос такой низкий, что меня потряхивать начинает. — Как скажешь. По полной.
Что это… что это он говорит. Я дергаю край сорочки, и его взбудораженный взгляд туда прямо долбится.
— Что ты имеешь… О чем ты говоришь?
— Я обслужу тебя. — Выговаривает он каждое слово необычайно четко. — Не надо этого. Штуки той. Я все сделаю. Как скажешь.
— Прекрати, — мягко говорю, и это похоже на шепот. — Ты не знаешь, что ты говоришь.
Он делает шаг вперед, а я упираюсь ногами в перекладину кровати. Кулак останавливается, и проводит рукой по рту, оттирая будто с губ что-то.
— Я все знаю. Ты только посмотри на себя. Ты… Харе всего этого. Я не понимаю, что ты хочешь. Но если… если тебе это надо, как той штукой, то я тебе все сделаю. Вообще все, что скажешь.
Это чудо, что я еще на ногах стою. Разрываюсь между тем, чтобы от волнения назад упасть. Или чтобы к нему со всех ног броситься. Поэтому и стою.
И то, и другое плохо закончится.
Внизу живота узел теплотой скручивается.
— Это все усложнит, — заставляю себя говорить, — вообще все. Так нельзя и не пойдет. Мы с тобой никогда не сойдемся на одном в Уставе и по стройке. Вмешивать… смешивать это нельзя.
— Так не смешивай, — повышает он голос, и меня назад качает. — Забудь про этот док, про Устав и условия. Причем здесь это? Не усложняй это, мать твою, сама.
— Нет. — Мотаю головой, и сердце синхронизируется. — Ты сбить с толку меня хочешь. Устав на самом деле только я защищаю. А у тебя орава… вон, кого угодно вообще. Ты и меня хочешь перевернуть в такую сторону, если убрать не получается.
Кулак дышит так грузно, там объёмно, что я в словах путаюсь, потому что путаюсь взглядом в движениях его раздувающейся грудины.
Хочу, чтобы майку стянул. Я так и не прикоснулась к нему там в прошлый раз.
— Я не хочу слышать об этом Уставе. Хватит. Я клянусь тебе, что доработаем все доки и условия до полного согласия всех, компромисса какого-то, и ничего до этого строить не буду. Ничего. Ни хуя. Сначала решим, в форме, как ты хочешь, а потом стройка.
Я во все глаза смотрю на него. Хочется волосами лицо прикрыть, так настойчиво и жадно он меня рассматривает. Слова из горла не проталкиваются, как надо.
Я хочу больше всего на свете, чтобы все получилось.
Хочу верить Кулаку.
— Нет, — сдавленно выдаю. — Так это не делается.
— Я клянусь тебе, Алиса, — вполголоса долбит он, — я клянусь, слышишь? Ничего. Вообще. До того, как решим бумажками. Я же принял твои поправки. Ты видела, я принял?
Мне… мне нужно выключить в комнате свет. Не могу смотреть на него, и на все вокруг. У меня все перегружено, все системы восприятия. По коже вязкий кисель уже разливается, и только от его голоса.
— Хорошо, — и взглядом все ему говорю и показываю, — хорошо.
Он заваливает меня на кровать, но целует в рот только урывком, прикусив нижнюю губу. Я глупо вскрикиваю, когда он на колени опускается перед перекладиной и задирает мою сорочку.
На мне белья нет и он сразу же разводит мои ноги в стороны.
—Кулаков, — чащу я, — ммм, ты… Я ведь только….
Он уже трется языком и лижет между половых губ, а потом додумывается прямо там меня целовать. Глубоко и жестко.
Стестнение от того, что он сразу мне так ноги раздвинул, проходит, когда он неистово работает языком по плоти и забывает бедра мои разжимать. Боль от сдавливания не раздражает, а только подстегивает.
Понимаю вдруг — он вообще делать этого не умеет, но огнем все равно клитор вспыхивает периодами.
Я простынь едва не рву, когда языком он уже долбит куда попало.
Кулаку нравится, когда я беспомощно мычу, и он заходится в очень старательных оборотах языка вокруг клитора. А потом прикусывает мякоть внутренней части моего бедра, и хрипит туда что-то.
Я кое-как на локтях приподнимаюсь. Все вокруг расплывается, пот в глаза затекает. Хочу объяснить ему, как надо сделать. Так я кончить не смогу.
Но не знаю, как объяснить. Еще жажда такая мучает, что горло сухим льдом скребет.
— Поднимись сюда на минутку, — задушено лепечу ему.
Повторяю несколько раз, перед тем как он ко мне приближается кое-как.
Он держится на одной руке, и какая же она мощная и крепкая.
Не верится, что это махина его туловища прямо надо мной нависает, прямо в номере. Мощный облик его будто кто-то вырезал и вставил сюда в пространство, как и мне в душу его скопировали, и он там теперь за края вылазит, по швам самим собой распирает, порвет ведь, порвет напрочь, если не остановится.
— Я сейчас… пожалуйста, сделай вот так. Кулаков, ты слышишь меня?
Он хватает мои губы ртом, пока я пытаюсь проговорить. Безумно хватает. Это не поцелуи,